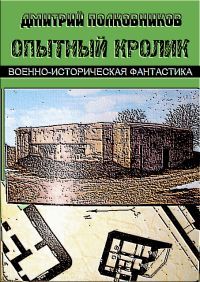Дмитрий Левинский - Мы из сорок первого… Воспоминания
Прикрывать отход остатков полка осталось человек тридцать. Мы расположились под защитой церкви и открыли прицельный огонь по наступавшим фигуркам врага — они хорошо просматривались среди деревьев. Сверху на нас падали куски штукатурки, отлетавшие от стены, когда в нее попадал снаряд. Ведя огонь — кто стоя, кто с колена, а кто лежа, — мы успевали наблюдать за уходом повозок из села. Мы видели, как повозки проезжали через горбатый мостик, а над ними совсем низко роем пролетали трассирующие снаряды. Сам мостик был пока цел. Повозки, благополучно его миновавшие и вырвавшиеся из села, снова при подъеме в гору попадали под прямую наводку. Многие из них взлетали на воздух. Все это было страшно своей беспомощностью.
Повозки артиллеристов вообще не могли покинуть село. Они стояли так плотно, что уцелевшие повозки не могли выбраться из месива лошадей, людей и искореженных телег. Кроме того, — и это являлось главным препятствием — гнать на полной скорости по ухабам повозки с тяжелоранеными нельзя. Артиллеристы все остались в селе — им было не уйти. Виноваты ли эти люди? А если они не виноваты, то кто же тогда виноват? Война?
Конечно, мы не французы, и ни о каком «белом флаге» ни у кого мысли не возникало. Да это ничего бы и не дало: шло истребление окруженных частей, и его не остановить, настолько все было скоротечным.
За церковью наших повозок становилось все меньше, а немцы уже входили в село. Пора было уходить, и нам тем более что кончались патроны. Я крикнул сержанту Фасахову:
— Пошел! — И предпоследняя повозка рванула через мостик, снаряды ее не задели.
Теперь была и наша с Ваней очередь. В последний момент, оторвавшись от наседавших немцев, выскочили из села. Мы разлеглись животами на повозке, чтобы нас не задело, и птицей пролетели мостик: это я со всех сил вонзил ножевой штык в круп лошади, и обе вынесли нас на простор. Нам с Ваней повезло не только проскочить горбатый мостик, но и гору, и поле невредимыми. Везде валялись разбитые повозки. За полем нашлась большая балка, в которой еще до нас с Ваней сосредоточились веете, кому удалось уйти от этой бойни…
Название села я совершенно случайно узнал через много лет после войны. Я тогда работал на флоте и находился в очередной командировке в Петрокрепости (Шлиссельбурге), где у нас был Невско-Ладожский технический участок. Смотрю — появился новый работник, славная девушка, техник по образованию, недавно окончившая речное училище в Ленинграде. Чем-то она мне приглянулась, и я машинально спросил:
— Светланочка, а где ваш дом?
— Ой, Дмитрий Константинович, мой дом далеко…
— А все-таки, разве это секрет? — Настаивал я.
— Я издалека — с Украины. Вы все равно не знаете…
— Света! Я на Украине много где бывал. Скажите, пожалуйста, мне очень интересно…
— С Одесской области я…
После такого заявления пришлось нам уточнить все, что только было можно. Я описал ей село, церковь, горбатый мостик, речушку и все остальное. Что же оказалось? Света родилась в 1940 году. В тот день, 10 августа 1941 года, она находилась на руках матери в погребе той самой крайней хаты, в которую угодил снаряд в начале артналета, о чем я поведал выше.
Мы со Светой были всем этим ошеломлены. Света поделилась со мной и такими деталями: ее мать на всю жизнь запомнила этот страшный день. Вот как случается. От Светы я и узнал название села. Это была Ананьевка и совсем недалеко от Березовки…
В балке скопилось много уцелевших повозок — наших и не наших. Последние присоединялись к нам, поскольку среди нас находились старшие командиры — майор и капитан. На Березовку, как говорилось выше, двигались сплошные потоки обозов разбитых частей. Все перемешалось.
Перевязочных средств мы не имели, врачей и санитаров — тоже. Рвали пропотевшие рубашки, делали из них жгуты, чтобы приостановить кровотечение. Это было все, что могли сделать. Практически оказаться раненым в той обстановке — это неминуемая гибель. Но каждый из нас, кого пока не задело пулей или осколком, оставался бодрым и невозмутимым: так устроен человек.
Появилась чья-то походная кухня. Опять разделывают лошадь, но на этот раз поесть не пришлось. Сперва я отправился на поиски патронов. Кое-что удалось добыть. Вернувшись, узнал, что меня разыскивает майор.
Он протянул мне флягу:
— Сержант, поищи водички… — И я отправился на поиски ручья. Неподалеку обнаружил мутный ручей с желтой водой. Набрал воды в обе фляги, напился сам, вернулся к Острикову и напоил его.
Тем временем он с другими командирами обсуждал старый вопрос, не дававший нам покоя: что делать дальше? Сколько можно изображать из себя кроликов, мечущихся перед пастью удава?
И майор принял первое кардинальное решение:
— Сержант! Возьми ключи от сейфа, вскрой его и сожги все содержимое до последней бумажки. После этого объяви всем, чтобы сдали тебе свои письма и фотографии, а насчет документов пусть каждый решает сам. Когда все сожжешь, приходи…
Я выполнил последний приказ командира полка. Из своих личных бумаг я оставил только комсомольский билет и довоенные фотографии Нины. Помню, как сейчас, что не только добросовестно все сжег, как просил майор, но и пепел для чего-то закопал — совсем как в моботделе! Видно, окончательно сдурел под конец.
После этих мало приятных процедур майор объявил о своем втором решении:
— Будем расходиться группами по 2–3 человека и ночами продвигаться к Южному Бугу. Большими группами и с повозками дальше не пройти. Есть другие мнения? — Последние слова Остриков произнес совсем тихо: все это давалось ему не легко. Это — конец полка.
Ответом было наше гробовое молчание. Что оно означало? Как же дальше жить без полка? Полк — это наш дом и наша солдатская семья. Создалась абсолютно непривычная ситуация. Мы спокойно служили и воевали, как могли, зная, что за нас думает командир. А теперь он командовать больше не будет, думать надо самим. Мы к этому не привыкли, насучили выполнять приказы, и только. Привыкнем ли? Лучше бы такого не было.
Все продолжали молчать. Молчал и Остриков, не поднимая головы. Мы понимали, как ему было тяжело. Никто из нас не двигался с места. Никому не хотелось расходиться «кто-куда». Все понимали: воевали бы лучше, этого бы не случилось. Я и сейчас не могу сказать, лучшим ли было то решение майора. Чтобы судить, надо было находиться на нашем месте.
После длительной паузы все были вынуждены согласиться с майором. Повозки давно пора бросать и уходить, как пишут в романах, «тайными тропами в ночи».
Очень трудно было осмыслить происходившее чисто психологически. Солдаты и командиры кадровой, регулярной армии принимают решение о самороспуске того, что еще оставалось от полка. Партизанских навыков мы пока не имели, да многие из нас и не признавали такой формы борьбы — не созрели еще. А полк когда-то называли «красой и гордостью Одесского гарнизона»!
Итак, мы все согласились. По большому счету майор Остриков, потерявший полк, подлежал суду военного трибунала и расстрелу. А командир дивизии, от которой ничего не осталось? А командующий армией, растерявший армию? А командующий фронтом, разваливший фронт? А Верховный Главком Сталин, разваливший все фронты? Он один все решал. Винить следует нашу общественную систему, допустившую все это. А Сталин, вместо того чтобы предстать перед судом за преступления перед армией и страной, приведшие к 1941 году, присвоит себе звание Генералиссимуса под аплодисменты оставшихся в живых…
А потому так ли виновен в случившемся майор Остриков, честный и храбрый солдат войны? Пусть рассудит история. А мы, его бойцы и командиры, бывшие с ним до последнего часа, знаем, что он сделал все, что мог сделать в той сложной обстановке на Южном фронте, которая сложилась в результате бездарного руководства армией и всей военной машиной, по крайней мере, накануне войны и в начальный ее период…
Вовремя успел майор Остриков переговорить с нами. Практически он прощался со всеми. Опять прилетела «рама», засекла нас в балке, и начался очередной артналет. На этот раз били гаубицы. Их огонь всегда был более губительным для нас — другой калибр!
Все повторилось. Опять повозки понеслись в гору, вылетели в поле и рассыпались в разные стороны от огня. Как только мы выскочили на просторы широченного поля, так не замедлили открыть огонь пушечные батареи, как всегда — на прямую наводку. Впереди нас, пока еще вдалеке, послышались автоматные очереди. Это нам с Ваней вовсе ни к чему. На этот раз советоваться с ним было некогда, и я принял решение. Со словами:
— Держись крепче, Ваня! — я во второй раз вонзил штык в израненный круп лошади, и повозка стремительно понеслась по полю. Затем я подал Ване знак, и мы на полной скорости, на животах, с винтовками в руках, выбросились из повозки на стерню. Лошади еще долго неслись в сторону немецких батарей, привлекая внимание и отвлекая огонь на себя.